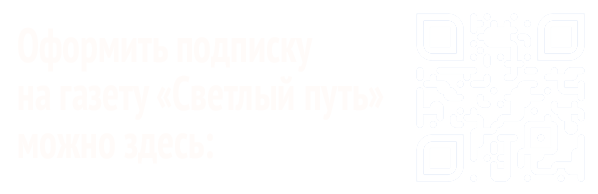Продолжаем публикации об исчезнувших селениях Нижнетавдинского района. Сегодня мы вспомним Леозново – переселенческий посёлок, располагавшийся в девяти километрах к западу от Новотроицкого. Информацией поделилась Алевтина Кузьмина, которая на протяжении нескольких лет бережно записывала факты, собирала старые фотографии, беседовала с уроженцами деревни.
Переселенцев из Белоруссии называли самоходами. До строительства Транссибирской железнодорожной магистрали они добирались в Сибирь своим ходом, везя пожитки на обозах. Самоходы – наиболее мобильная и смелая часть белорусского крестьянства, ведь они не побоялись пройти тысячи километров в поисках земли и лучшей доли. В 1927 году первые ходоки-разведчики из Могилёвской и Витебской областей образовали переселенческий участок Леозново (разумеется, с разрешения местных властей). Место сразу понравилось белорусам. Вокруг – красивые леса и озёра (Наумково, Малые и Большие Калачики). Места, богатые дичью, рыбой, грибами и ягодами.
Земля, выделенная поселенцам, была ни разу не вспахана. Тут стоял лес, приходилось выкорчёвывать огромные пни. Первое время рыли землянки, и только потом начали возводить дома. До коллективизации жили единоличными хозяйствами: сеяли рожь, пшеницу, ячмень, разводили скот. При освоении участка под пашню обязательно сажали лён, чтобы обеспечить семью одеждой и необходимыми предметами быта (скатертями, полотенцами, рушниками).
По вехам
В 1936 году образовывается колхоз «Муравей». Большинство хозяйств влились добровольно, но были и такие (единоличники), кто не признавал новшеств. Их забирали, как правило, ночью, и больше о них никто никогда не слышал. Народ сдавал землю, коров, лошадей, прочую живность, сельскохозяйственный инвентарь. Центральная усадьба колхоза располагалась в Леозново в то время Новотроицкого сельсовета Нижнетавдинского района Омской области. В 1938 году колхоз переименовывается в «Москву». С 14 августа 1944 года территория вошла в состав Тюменской области.
В процессе укрупнения более рентабельных колхозов леозновский входит в состав новотроицкого «Нового пути». В 1951 году вновь происходит объединение – все мелкие вливаются в укрупняемый колхоз имени Шверника, который спустя шесть лет получает имя Калинина, а в 1963-м – Дзержинского. До сих пор при въезде в Новотроицкое по правую руку красуется небольшая стела в память о колхозных временах.
После Великой Отечественной войны деревня начала потихоньку разъезжаться. Часть жителей перебралась в центральную усадьбу – Новотроицкое, часть – в Иску-Чебакову, Тукман, Маслянку, Нижнюю Тавду, Картымский и другие населённые пункты района. Последней в деревне осталась семья Новиковой Зинаиды Ильиничны. В 1987 году деревня исключена из учётных данных.
Воспоминания Натальи Тимофеевны Растатуровой (Воронковой)
«Родом мы из деревни Маковня Могилёвского района. Родилась я в многодетной семье, родители Воронковы Тимофей Семёнович и Устинья Оверьяновна до середины 1920-х годов проживали в Белоруссии. Жизнь была очень тяжёлой. Основная причина – малоземелье. Коли земли нет, то и семью не прокормить, и скот не содержать. Да налоги были серьёзные. Прошёл по деревне слух, что в Сибири землю раздают. Кто грамотный был, в газетах прочитал. Собрали семейный совет, на котором решили мужиков в разведку отправить. Собрались одни Воронковы: Михаил, Евмен, Родион, папка наш, Семён и Алексей. Что ни говорили, но моя старшая сестра Фёкла ни за что не хотела Семёна одного отпускать и поехала вместе со всеми. По прибытии в Тюменскую область местная администрация определила местом проживания деревню Леозново. Там стоял густой сосновый бор из таких сосен, что мужики вдвоём не могли обхватить. Стали потихоньку обустраиваться, рыли землянки. Местные власти помогли завести скот и на три года освободили от налогов. В 1928 году построили первый дом для Фёклы, затем папка с братом Алексеем поехали за нами.
До Тюмени мы ехали поездом, а потом пожитки везли на лошадях, а сами пешком. В Сибирь приехала не вся наша семья. Дуся с Мотей были уже замужем и решили остаться на родине, а Михаил, Анна, Иван, я и мама приехали в Леозново. Первое время бытовали у Фёклы. Папка с братьями сразу начали корчевать участок, который нам выделили. Там росло 17 сосен, из которых и был построен дом да хозяйственные постройки. При коллективизации родители сразу вступили в колхоз «Муравей». Отца назначили конюхом, мама с братом Михаилом и сестрой Анной тоже работали. В Леозновскую школу мы с Иваном пошли в первый класс. Окончила только два класса, а потом мне пришлось уйти. Ходить было не в чем, да и по дому нужно было помогать.
Первые годы собирали хорошие урожаи зерна. Колос был большой, ломался и клонился к земле. Когда начинали страду, мама стелила дерюгу, чтобы меньше зерна осыпалось на землю. Зерна хватало на всё: и налог выплатить, и скоту на корм. Даже выменивали на керосин и одежду.
Перед войной Анна вернулась в Белоруссию. Во время оккупации проживала в Минске с сестрой Евдокией. Хотели угнать в Германию, но она спряталась в погребе за бочками с огурцами. После войны переехали в Гродно.
12 сентября 1939 года брата Михаила призвали в армию. Службу проходил в Хабаровском крае, оттуда и ушёл на войну. Погиб в 1943 году, похоронен в Белоруссии. Осталась жена Алма Карловна.
Днём 22 июня прискакал гонец из райцентра верхом на лошади и объявил, что началась война. Гитлер напал на нашу страну. Бабы и ребятишки заревели, а мужики стали собираться воевать с немцами. Мне тогда пятнадцать лет было…
В первые дни войны Семёна призвали, а уже в октябре пришла похоронка. Осталась Фёкла одна с шестью детьми на руках, младшему Павлу и года не было.
Брату Ивану до войны было поручено менять зерно на сортовое. Он на лошадях возил в Нижнюю Тавду. За это время себе на костюм заработал, но поносить не удалось – в 1942 году ему исполнилось восемнадцать, и его призвали. Мама собрала еды, он надел свой костюм, сел на телегу и громко запел песню. Больше мы его не видели. Пришло одно письмо, а потом – похоронка. Погребли брата в Эстонии. В 1944 же погиб и муж сестры Матрёны Дерюжин Никита Антонович.
Все молодые юноши и мужчины ушли на фронт. В деревне остались только женщины да подростки. Вся тяжёлая работа легла на наши плечи. Впрягались в плуг, пахали, вязали снопы. Как выжили, как выстояли? Запрягали коней, всю зиму ездили за сеном. За работу ставили палочки – начисляли трудодни по 20 копеек, выдавали в конце года. Не было ни одежды, ни обуви. Хлеба не ели досыта и после войны. Техники не было, всё делали люди. Вспомню эти годы и до сих пор хочется плакать.
Ещё в войну, помнится, была глубокая осень. Отец пошёл собирать коней, а одного не смог найти. Только на следующий день отыскали его застрявшим в болоте. Вытаскивали коня, и тот лягнул отца в бок. Папка заболел и в 1943 году умер. Остались мы с мамой.
9 мая 1945 года я хорошо запомнила. На быке Буяне боронила поле, а тут подъезжает ко мне наш бригадир Васса. Думаю, что-то с мамой случилось. А она обняла меня и заплакала. Говорит: «Война закончилась». Распрягла я своего Буяна и поехала с бригадиром в деревню. Там уже собирали стол, у кого что было, так и отпраздновали большой день для всей страны. Вскоре мужики стали возвращаться с войны, и стало полегче.
В ноябре вышла замуж за участника войны Растатурова Ивана Алексеевича. Мы с ним работали в колхозе «Москва». Я – на ферме, он – трактористом. При укрупнении решили переехать в Новотроицкое…»
Воспоминания Александра Романовича Ермакова, внука Марии Александровны Ганшмидт и Югона Пельберг, жителей Леозново:
«Жизнь моя протекала так же, как и у моих одногодок. Мы гоняли по пыльной дороге металлический обод от колеса, и особым шиком считалось оставлять после себя столб пыли. Когда надоедало это занятие, шли купаться на озеро. По пути объедали верхушки молодых сосёнок, так как всем было голодно. С левой стороны был пляж, где мы плескались и ловили ракушек.
Детство моё окончилось рано, приходилось помогать старшим. Они работали на уборке картофеля и других корнеплодов. А я на телеге во-зил их в мешках к складу возле школы. Жили мы в основном за счёт сбора грибов и ягод. Дед Сильвестр рыбачил и охотился. Грибы, особенно грузди и белые, мы собирали и приво-зили на телеге. Затем начинались сушка и соление. Убирали капусту, картофель, морковь и прочее. Мясо мы видели во время убоя скота осенью, а зимой ели бочковую солонину. Так и проходила моя жизнь. В зимнее время, иногда на лыжах, ходил ставить петли на зайцев. Приходила весна, звенели ручейки, пускали кораблики. Когда появлялись проталины, гулял по лесу, смотрел, как пробивают себе место под солнцем разные цветы, особо медуница и ландыши.
Помню, как из армии пришёл бравый солдат, мой дядька Иван Пельберг, который впоследствии взял в жёны Татьяну Даниловну Новикову. По-простому – Тотю. Я часто ходил к дядьке Ивану, и нас встречал и пускал на черёмуху дед Данила. Помню его рыжую бороду-лопату. Помню, как мужики ставили новый сруб для дома. Это был большой и хороший дом. Самое памятное место в моей жизни занимают приезды кинопередвижников и поход в кино, которое показывали в школе.
Когда мы уезжали в Ташкент, село имело пять улиц и расширялось, а на момент моего приезда осталась одна короткая улица с вросшими в землю домишками. Наш дом разрушен. Правление колхоза сгорело, нет водокачки, станции МТС, коровников и конюшен. Сгорел сельмаг, сгорела и школа, в которой я учился в Леозново и которую перевели в Новотроицк. Нет медсанчасти, нет много чего…»
Александр Ермаков четыре класса учился в Леозново. Потом его семья переехала в Новотроицкое. В 1965 году они уезжают в Ташкент к родственникам – не было нормальной работы и досуга. В Узбекистане уроженец Леозново стал видным человеком. Получил три высших образования, удостоен за различные заслуги правительственных наград. Свою последнюю поездку на малую родину он совершил в 2017 году, а на следующий год умер.
Слово о летописце
В семье Натальи Тимофеевны и Ивана Алексеевича Растатуровых родилось семь детей. Шестеро – в Леозново, а последняя дочка – Алевтина Кузьмина, летописец истории малой родины своих родителей – в Новотроицком.
– В 1979 году я начала трудовую деятельность, став секретарём сельского совета, – рассказала Алевтина Ивановна. – Конечно, много работала с населением и часто бывала в Леозново. Прекрасно помню Сидоренко Тамару Ильиничну, Новикову Зинаиду Ильиничну, Линдинберг Петра Карловича, Пельберг Татьяну Даниловну и многих других. Я и в детстве часто приезжала в деревню. У нас там осталась родственница Растатурова Федосья Алексеевна, и мы всей семьёй часто гостевали. Иногда зимой приедешь по рабочим вопросам, а снега наметёт столько, что с дороги приходилось буквально плыть по самую шею в снегу. Вкруг деревни всегда были очень богатые места, и даже те, кто переехал со временем в Новотроицкое или другие населённые пункты, по ягоды и грибы приезжали в родные с детства места… Информацию о малой родине родителей собирала по крупицам несколько лет. Началось всё, понятное дело, с истории семьи, а потом уже и всей деревни. Много маминых воспоминаний записано, даже видеосюжеты есть. Со многими земляками, которые сейчас живут в разных уголках района, беседовала и сохраняла данные о белорусских переселенцах, обретших дом в Леозново. Очень много скопилось фотографий из семейных альбомов жителей деревни, и я продолжу работу.
Шестьдесят лет существовало Леозново. 4 августа текущего года на месте деревни установлен памятный знак, возвещающий о том, что в середине прошлого столетия здесь ещё кипела жизнь. Люди играли свадьбы, провожали парней в армию, растили детей, собирались вечерами с гармонью, держали скотину, с благодарностью работали на сибирской земле, что в то нелёгкое время пригрела голодающих белорусских крестьян…